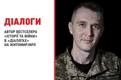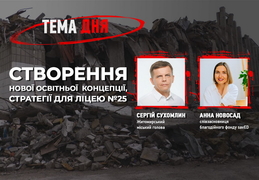Сразу скажу: так называемые «пилатовы главы» «Мастера и Маргариты» кощунственны. Это неинтересно даже обсуждать. Достаточно сказать, что Иешуа булгаковского романа умирает с именем Понтия Пилата на устах, в то время как Иисус Евангелия – с именем Отца. Любой христианин (а христианин — при максимально мягком и широком определении этого слова – это человек, который молится Христу) любой конфессии согласится с этой оценкой.
Вопрос в другом: а можно ли эту оценку («кощунство») перенести с «пилатовых глав» на весь роман в целом и на самого Булгакова?
Сербский исследователь М. Иованович настаивает, что «Евангелие по Воланду» оказывается одновременно и «Евангелием по Булгакову», и полагает, что «Булгаков писал свой роман с воландовых позиций».
На мой взгляд, такое отождествление слишком жестоко и поспешно.
Впрочем, прежде, чем приводить аргументы, признаюсь, почему я стал их искать (в конце концов, разум всегда приводит лишь в ту точку, в которой ты назначаешь ему свидание).
Я полюбил эту книгу, когда она еще не входила в школьную программу. И мог страницами цитировать ее по памяти. Даже спустя пятнадцать лет после прочтения, впервые оказавшись в Иерусалиме, я смотрел на Город через булгаковские стихи (язык не поворачивается назвать прозой его описание грозы над Ершалаимом). Иначе было просто невозможно: я стоял на вершине Масленичной горы; внизу был Город, а с запада, (но не сверху, а вровень с глазами) надвигалась гроза. Ну как тут было не вспомнить: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях…».
В общем, мне хотелось бы оправдать консерватизм своей любви. Имею ли я право продолжать с любовью относиться к булгаковской книге, несмотря на то, что за эти годы я стал ортодоксальным христианином? Может ли христианин не возмущаться этой книгой? Возможно ли такое прочтение булгаковского романа, при котором читатель не обязан восхищаться Воландом и Иешуа, при этом восхищаясь роьманов в целом? Воланд – оппонент автора или резонер, которому доверено озвучивать авторскую позицию? Возможно ли такое прочтение романа, при котором автор был бы отделён от Воланда?
Такую возможность отрицают школьные учебники по литературе. Что ж, пора выходить за порог слишком средней школы.
<...>
БУЛГАКОВ И БЕЗВЕРИЕ
5 января 1925 года Булгаков записал в своем дневнике: “Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Был с М[ишей] С[тоновым], и он очаровал меня с первых же шагов. – Что, вам стекла не бьют? – спросил он у первой же барышни, сидящей за столом – То есть как это (растерянно). Нет, не бьют (зловеще). – Жаль. – Хотел поцеловать его в его еврейский нос… Тираж, оказывается, 70 000, и весь расходится. В редакции сидит неимоверная сволочь, выходит, приходит; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации… На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы. “Как в синагоге”, — сказал М., выходя со мной… Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне… Соль в идее: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены».
На обложке первого номера «Безбожника» было напечатано: «С земными царями разделались, принимаемся за небесных». Передовица Н. И. Бухарина – «На борьбу с международными богами»: «Русский пролетариат сшиб, как известно, корону царя. И не только корону, но и голову. Немецкий — свалил корону с Вильгельма, но голова, к сожалению, осталась. Австрийский рабочий добрался до короны, не добрался до головы, но король сам испугался и от испуга умер. Недавно греки сшибли еще одну корону. Словом, на земле на этот счет не приходится сомневаться: рискованное дело носить это украшение. Не совсем так обстоит дело на небе,.. Международные боги... еще очень сильны... Так дальше жить нельзя! Пора добраться и до небесных корон, взять на учет кое-что на небе. Для этого нужно прежде всего начать с выпуска противобожественных прокламаций, с этого начинается великая революция. Правда, у богов есть своя армия и даже, говорят, полиция: архистратиги разные, Георгии Победоносцы и прочие георгиевские кавалеры. В аду у них настоящий военно-полевой суд, охранка и застенок. Но чего же нам-то бояться? Не видали мы, что ли, этаких зверей и у нас на земле? Так вот, товарищи, мы предъявляем наши требования: отмена самодержавия на небесах; ... выселение богов из храмов и перевод в подвалы (злостных — в концентрационные лагеря); передача главных богов, как виновников всех несчастий, суду пролетарского ревтрибунала».
<...>
Похоже, что с Булгаковым произошло то же, что и со многими другими русскими интеллигентами 20-х годов. Русской интеллигенции вообще трудно быть рядом с властью. Комфортнее она чувствует себя в оппозиции. Пока православие было государственной религией, интеллигенция ворчала на Церковь и скликала «буревестников революции». Но когда стаи этих стервятников слетелись и явили свое хамское мурло, когда революционно-атеистическая инквизиция показала, что решимости, напора и требовательности у нее куда как больше, чем у старой церковно-монархической цензуры, тут уже и для интеллигенции настала пора «смены вех».
Шок от знакомства с журналом «Безбожник» по мнению некоторых исследователей «Мастера и Маргариты», сказался и в выборе фамилии сатанинского служки – Коровьева.
<...>
Булгакову хотелось осадить наглый натиск «коровьего безбожия». И это свое слово, предупреждение, он хотел увидеть дошедшим до людей, опубликованным. Как вступить в гласную полемику с атеистической цензурой?
Не нравилась советская жизнь Булгакову. Он вообще не мог описывать ее не-фельетонно. Но одно дело высмеивать очереди, коммунальные склоки, бюрократию и прочую бытовуху. И совсем другое дело – бросать вызов официальной идеологии.
Вот и Булгаков в “пилатовских главах” вроде бы соглашается с базовыми тезисами атеизма. Иисус не есть Христос, Он не Сын Божий и не Бог. Он не творил чудес, не обладал даром пророчества, не воскресал и не спасал души людей. Учение Иисуса совершенно абстрактно, неприложимо к жизни. Да и в чем оно состояло – совсем не ясно, ибо Евангелия исторически недостоверны. Во всяком случае “добренький Иисусик” ничего не понимал в классовой борьбе, и его мораль никак не может помочь делу борьбы за коммунизм. В общем, если Христос и победил, то лишь потому, что проиграл Спартак (так звучал рекламный слоган советского атеизма).
На Патриарших прудах Берлиоз и Иван Бездомный беседуют о том, как доходчивее разуверить читателей во Христе. Берлиоз не просто глава столичных литераторов. Это в итоговом варианте романа он редактор безымянного “художественного журнала”. В ранних же редакциях Булгаков более понятен и конкретен: журнал, редактируемый Берлиозом, называется “Богоборец”. В мае 1929 года предполагалось, что Воланд не верит в искренность атеизма Берлиоза: «Начальник атеист, ну, и понятно, все равняются по заведывающему, чтобы не остаться без куска хлеба». «Эти слова задели Берлиоза. Презрительная улыбка тронула его губы, в глазах появилась надменность. – Во-первых, у меня нет никакого заведывающего».
Более того, в черновике «романа о дьяволе» Берлиоз предлагает Воланду напечатать в своем атеистическом журнале главы из его «евангелия». На это предложение Воланд отвечает: «сотрудничать у вас я счел бы счастьем» (симпатия была взаимной: Берлиозу иностранец «очень понравился»). «Работа адова делалась и делается уже» в Советском Союзе руками людей. Воланд пользуется случаем выразить свою благодарность этим комиссарам:
«- В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге. Тут иностранец встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова: — Позвольте вас поблагодарить от всей души!».
Иван Бездомный — антирелигиозный поэт. В своей поэме он столь злобно “очерчивает Иисуса”, что Он получается у него “совершенно живой”.
Итак, «роман о дьяволе» начинается с беседы двух профессиональных советских богоборцев.
В рукописи 1928 года Берлиоз (тогда он еще звался Владимир Миронович) растолковывает Ивану (тогда еще по фамилии Попов), какую именно стихотворную подпись должен он сочинить к уже готовому рисунку в журнале «Богоборец» – к карикатуре, где Христос заедино с капиталистами. Слушая его, Иванушка рисует прутиком на песке «безнадежный, скорбный лик Христа». Причем это именно карикатура: на Христа Иван надевает пенсне.
Вот тут атеисты перестают быть одни. Отрицаемый ими мир духов вторгается в их беседу. Появляется Воланд с вопросом – «Если я правильно понял, вы не изволите верить в Бога». «Не изволим, — ответил Иванушка».
Затем следовал разговор о пяти доказательствах бытия Бога (в первой рукописи еще без упоминания о Канте)… И вот взгляд незнакомца падает на рисунок Иванушки: «Ба! Кого я вижу! Ведь это Иисус! И исполнение довольно удачное» (позднее он похвалит и литературную карикатуру на Христа, выполненную Мастером).
Иван делает попытку стереть рисунок, но Воланд останавливает его, предостерегая – «А если Он разгневается на вас? Или вы не верите, что он разгневается?». Рисунок временно остается на песке. (А Воланд рассказывает, как он искушал Иисуса, уговаривая его прыгнуть вниз с крыла храма).
Во второй главе (она носила название «Евангелие Воланда», затем – «Евангелие от Воланда», «Евангелие от дьявола») Воланд рассказывает свою версию суда над Христом.
А в третьей главе – «Доказательство инженера» — теперь уже Воланд провоцирует Ивана не то что стереть, а наступить на лик Христа и тем самым доказать свое неверие. Иван поначалу отказывается, но Воланд подзуживает его, обзывая «врун свинячий» и «интеллигент». Последнего оскорбления Иван стерпеть не смог – и растоптал лик Христа. «Христос разлетелся по ветру серой пылью… И был час шестой». В Евангелии именно тогда тьма распростерлась над Городом…
Так начиналась первая попытка Булгакова написать тот роман, что известен нам под именем «Мастера и Маргариты».
<...>
Напоминая об этом эпизоде в истории текста романа, В. Лепахин справедливо комментирует: «Иван, не задумываясь о смысле своего действия, хочет стереть «карикатуру» на Христа. Воланд же, остановив его, затем предлагает совершить то же самое, но как сознательный акт осквернения образа Христова, как отречение от Него".
В окончательной редакции мы увидим, что Воланд (Азазелло) приветствует сожжение романа о Иешуа призраком Мастера. На пути к той вечности, в которую Воланд ведет Мастера (покой без света), любой образ Христа (даже карикатурный) должен быть попран.
И все же полемика Берлиоза и Бездомного – отражение той полемики в рамках советского атеизма, которая прошла через всю его историю. Одни богоборцы удовлетворялись тем, что низводили Христа с Неба на землю и говорили о нем как об обычном человеке. Другим хотелось смести Христа даже с лица земли и вычеркнуть Его вообще из истории. Они видели в Иисусе лишь литературно-мифологический персонаж и отрицали какую бы то ни было его историчность.
<...>
Наиболее яркое и на советском культурном пространстве авторитетное лицо, озвучивавшее эту версию – это Лев Толстой. В 30-годы с каждым годом его авторитет все возрастал среди образованцев: советская власть простила Льву Николаевичу его графство, объявила классиком и начала издавать 90-томное Полное Собрание Сочинений. Конечно, в это собрание входили и «богословские» труды Льва Толстого, отрицавшие Божественность Христа.
У Корнея Чуковского в «Воспоминаниях о М. Горьком» есть точная заметка: «Была Пасха. Шаляпин подошел к Толстому похристосоваться: — Христос воскресе, Лев Николаевич! – Толстой промолчал, дал Шаляпину поцеловать себя в щеку, потом сказал неторопливо и веско: — Христос не воскрес, Федор Иванович… не воскрес…». Себя Лев Николаевич назначил в почетные и безапелляционные цензоры Евангелия: «Читатель должен помнить, что не только не предосудительно откидывать из Евангелий ненужные места, но, напротив того, предосудительно и безбожно не делать этого, а считать известное число стихов и букв священными».
Моралистика без мистики – вот «евангелие от Толстого». Всепрощение, непротивление и никаких там чудес и демонов.
Родство Иешуа и рафинированного толстовского атеизма вполне очевидно. Но есть ли признаки, по которым можно судить об отношении Булгакова к Иешуа и к той этике всепрощения, которая озвучивается устами Иешуа?
Главный и даже единственный тезис проповеди Иешуа – «все люди добрые» — откровенно и умно высмеивается в «большом» романе. Стукачи и хапуги проходят вполне впечатляющей массой. Со всей своей симпатией Булгаков живописует погромы, которые воландовские присные устроили в мещанско-советской Москве. У такого Иисуса Булгаков не зовет учиться своего читателя.
Да, Булгаков предлагает художественную версию толстовско-атеистической гипотезы. Но при этом вполне очевидно, что учение Иешуа не есть кредо Булгакова. Иешуа, созданный Мастером, не вызывает симпатий у самого Булгакова.
Образ любимого и положительного героя не набрасывают такими штрихами: «Ешуа заискивающе улыбнулся..»; «Иешуа испугался и сказал умильно: только ты не бей меня сильно, а то меня уже два раза били сегодня»; «Иешуа шмыгнул высыхающим носом и вдруг такое проговорил по-гречески, заикаясь». Булгаков не мальчик в литературе. Если он так описывает персонажа – то это не его герой.
«Пилатовы главы», взятые сами по себе – кощунственны и атеистичны. Они написаны без любви и даже без сочувствия к Иешуа. Мастер говорит Ивану: «Я написал роман как раз про этого самого Га-Ноцри и Пилата". Довольно-таки пренебрежительное упоминание...
Об Иешуа Мастеру говорить неинтересно: «Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Пилатом, — попросил Иван, — умоляю, я хочу знать. — Ах нет, нет, — болезненно дернувшись, ответил гость, — я вспомнить не могу без дрожи мой роман. А ваш знакомый с Патриарших прудов сделал бы это лучше меня»...
Мастер абсолютно чужд идеологии всепрощения, которую он вкладывает в уста Иешуа: «Описание ужасной смерти Берлиоза (Иваном Бездомным – А. К.) слушающий (Мастер – А. К.) сопроводил загадочным замечанием, причем глаза его вспыхнули злобой: — Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича» (гл.13).
Значит, не только Булгаков, но и Мастер не сочувствует тому Иешуа, который появляется на страницах романа о Пилате.
А Мастер еще не очень-то по сердцу и Булгакову: «Вы – писатель? – спросил с великим интересом Иван. — Я – мастер, — ответил гость и стал горделив, и вынул из кармана засаленную шелковую черную шапочку, надел ее, а также надел и очки, и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он действительно мастер».
Согласитесь — странный способ доказывать свою литературную талантливость…
Итак, Булгаков явно не ставит себя в ученики «этого самого Га-Ноцри». Образ Иешуа вопреки восторженным заверениям образованцев, не есть икона. Это не тот Лик, в который верит сам Булгаков. Писатель создает образ вроде-бы-Христа, образ довольно заниженный и при этой не вызывающий симпатий у самого Булгакова.
<...>
Булгаковский роман – это провокация. Но и сам Христос провокативен. Христос – это Бог, который прячется на земле. Его цель была взойти на Крест. Но искупительная жертва не состоялась бы, если бы фаворская слава Христа была бы очевидна всеми и всегда. И потому Он прячет Свое Божество под «завесой плоти» (Евр. 10,20), в «образе раба» (Филип 2,7). А то, что спрятал Бог, человек найти не может. Поэтому Христос говорит ученикам: «Не вы Меня избраля, а Я вас избрал» (ин. 15,16). Поэтому и на Кресте Он молится о Своих палачах – «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23,34). Поэтому Он говорит о хулящих Его, что хула на Сына Человеческого простится (см. Мф. 12,31).
Св. Иоанн Златоуст так говорит об этих словах: «Христа не знали, кто Он был; а о Духе получили уже достаточное познание... Слова Христа имеют такое значение: пусть вы соблазняетесь Мною по плоти, в которую Я облекся.. Я вам отпускаю то, чем вы Меня злословили прежде креста, даже и то, что вы хотите распять Меня на кресте, и самое неверие ваше не будет поставлено вам в вину... Но что вы говорили о Духе, то не будет прощено вам... Почему? Потому что Дух Святый вам известен, а вы не стыдились отвергать очевидную истину».
В определенном смысле, Христос был именно таким, как булгаковский Иешуа га Ноцри из «Мастера и Маргариты». Таким был «имидж» Христа, таким Он казался толпе. И с этой точки зрения роман Булгакова гениален: он показывает видимую, внешнюю сторону великого события – пришествия Христа-Спасителя на Землю, обнажает скандальность Евангелия, потому что действительно, нужно иметь удивительный дар Благодати, совершить истинный подвиг Веры, чтобы в этом запыленном Страннике без диплома о высшем раввинском образовании опознать Творца Вселенной.
Мы привыкли к представлению об Иисусе-Царе, Иисусе-Боге, с детства слышим молитвы: «Господи, помилуй», «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». А такие произведения, как картины Ге, или, в меньшей степени, Поленова, или тот же «Мастер и Маргарита» помогают нам понять всю невероятность и парадоксальность апостольской веры, почувствовать ее болевой ожог, позволяют нам вернуться в точку выбора… Но Булгаков обнажает всю глубину этого выбора: глаза здравого смысла и научного атеизма он вставил в глазные впадины Воланда. Тот, кто поверит бытовой очевидности, окажется все же союзником сатаны…
<...>
Булгаков использует Воланда как доказательство [бытия Божия]. Когда Булгаков только приступил к работе над романом, то первая же его глава носила название «Шестое доказательство» (о кантовском доказательстве тогда еще Булгаков не упоминал).
Более того, именно в Воланде он видит главное действующее лицо всего романа. В обращении к “Правительству СССР” 28 марта 1930 года он называет свой труд “роман о дьяволе”. Дьявол выписан столь живо и реалистично, что Д. С. Лихачев как-то заметил, что после “Мастера и Маргариты” по крайней мере в бытии дьявола сомневаться нельзя.
Булгаков построил книгу так, что советский читатель в «пилатовых главах» узнавал азы атеистической пропаганды. Но автором этой узнаемой картины оказывался… сатана. Это и есть «доведение до абсурда», reductio ad absurdum. Булгаков со всей возможной художественной очевидностью показал реальность сатаны. И оказалось, что взгляд сатаны на Христа вполне совпадает со взглядом на него атеистической государственной пропаганды. Так как же тогда назвать эту пропаганду? Научной или...? Оказывается, в интересах сатаны видеть во Христе идеалиста-неудачника. А, значит, чисто-«научного» атеизма нет. Атеизм – это просто хорошо замаскированный (или забывший о своем истоке) сатанизм.
Два вывода из «Мастера и Маргариты» напрашиваются довольно очевидно. Первый – что за атеистической пропагандой реет тень люциферова крыла. Второй позволю себе выразить словами рок-певца Виктора Цоя: «Если есть тьма – должен быть свет!».
<...>
КТО АВТОР РОМАНА О ПИЛАТЕ?
Изначально у Булгакова все было очевидно: автор «романа о Пилате» — Воланд. Но по мере переработки романа «исполнителем» рукописи становится человек – Мастер.
Впервые на страницах булгаковского романа Мастер появляется довольно поздно — в тетрадях 1931 года (позже, чем Маргарита). Автором же романа о Пилате он становится еще позже — только осенью 1933 года (он еще «поэт»; впервые «мастером» называет его Азазелло).
До той же поры авторство Воланда несомненно. Даже свое имя Мастер заимствовал у Воланда. "В первых редакциях романа так почтительно именовала Воланда его свита (несомненно, вслед за источниками, где сатана или глава какого-либо дьявольского ордена иногда называется "Великим Мастером").
При этом двух Мастеров в романе никогда не было: когда Мастером был Воланд, любовник Маргариты назывался «поэтом».
Переход имени означает и частичный переход функции. Создавая образ Иешуа, Мастер подхватывает работу Воланда. И тут появляется интересный нюанс. Теперь авторство черного евангелия выстраивается многоступенчато – как и в случае с евангелиями церковными. В богословии различаются «Евангелие Христа» и «евангелие от Матфея». «Евангелие Христа» — это проповедь самого Христа. Четыре «Евангелия от...» — это передача проповеди Христа четырьмя различными людьми. «От» — это перевод греческого предлога «ката», смысл которого точнее было бы перевести «по». В каждой из этих передач есть свои акценты и приоритеты. Значит, названия наших главных церковных книг – «Евангелие Иисуса Христа по Матфею», «...в передаче Матфея».
Вот также и у Булгакова после передачи Мастеру пера, набрасывающего «роман о Пилате», начинает различаться «евангелие Воланда» и «евангелие от Мастера». Автором первого является непосредственно сатана, а вот литературное оформление второго передается человеку – Мастеру. Но Мастер творчески активен и самостоятелен лишь в литературном оформлении, а не в сути.
О несамостоятельности работы Мастера над своим романом говорит многое. Во-первых, то, что у Мастера нет своего личного имени. Во-вторых, то, что рассказ о Пилате начинается до появления Мастера на арене московского романа и продолжается уже после того, как Мастер сжег свой роман. Кто же начинает и кто завершает? – Воланд.
Причем Воланд презентует этот рассказ на правах «очевидца». «Боюсь, что никто не может подтвердить, что то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле, — заметил Берлиоз. — О нет! Это может кто подтвердить! — начиная говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно ответил профессор. — Дело в том... что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте».
Мастер – «гадает», Воланд – видит. Мастер отсылает Ивана за продолжением к Воланду («ваш знакомый с Патриарших прудов сделал бы это лучше меня»). Воланду же ни к чему ссылка на Мастера.
Правда, о своей причастности к этой книге Воланд не торопится возвещать. «Так вы бы сами и написали евангелие, — посоветовал неприязненно Иванушка. Неизвестный рассмеялся весело и ответил: — Блестящая мысль! Она мне не приходила в голову. Евангелие от меня, хи-хи...» Тут видна ложь, без которой немыслим образ сатаны. «Евангелие от дьявола» уже написано и уже известно соавтору. Но Воланд отрекается от авторства. <…>
Так же он поступит и в окончательной версии романа – сделав удивленный вид при встрече с Мастером.
Что ж – «поздравляю вас, гражданин, соврамши!». Что Воланд знаком с Мастером и его романом, выдает сам Мастер, когда в больнице говорит Иванушке – «Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее». Штука в том, что Иванушка имени Воланда и сам не знал и Мастеру не называл…
Да и сам Воланд намекает на то, что одна вполне конкретная рукопись интересует его и что именно этот интерес и завлек его в Москву:
Воланд прибыл в Москву для знакомства с рукописью одного из Фаустов. В подвалах дома Пашкова Воланд замечен не был. А вот с рукописью нового Фауста – Мастера — он и в самом деле познакомился. Но о ее существовании он знал все же с самого начала…
Отношения Мастера с Воландом — это классические отношения человека-творца с демоном: человек свой талант отдает духу, а взамен получает от него дары (информацию, видения-«картинки», энергию, силы, при необходимости и «материальную помощь» и защиту от недругов).
Порой при этом сам человек не понимает до конца, откуда же именно пришел к нему источник его вдохновения. Мастер, например, уже завершив свой роман, впервые встречается с Воландом лицом к лицу. Причем Воланд делает вид, что он никакого отношения к творчеству Мастера не имеет (точнее, словом Воланд заявляет одно, а вот делом – являя сожженную рукопись — тут же демонстрирует совсем иное).
Вот чего нет у сатаны — так это собственного творческого таланта. Оттого так ненужны, скучны и повторны пакости воландовской свиты в конце московского романа (уже после бала у сатаны).
<...>
Лишь человек несет в себе образ Творца творцов. Способность же творить, менять мир и владычествовать над ним вменена человеку вместе с телесностью. Отсюда и важнейший этический вывод: "Ангел неспособен к раскаянию, потому что бестелесен" (преп. Иоанн Дамаскин). Поскольку способность к творчеству связана с телесностью, а раскаяние есть величайшее творчество — то вне тела раскаяние невозможно. Не поэтому ли падший ангел не может покаяться? Не поэтому ли его отпадение невозвратимо и вечно? Не поэтому ли и для человека нет покаяния после выхода души из тела? Не поэтому ли Христос говорит: "В чем застану — в том и сужу"?
Свобода ангелов – одноразового пользования. Они однажды выбирают – с Творцом или против Него. И в этой однажды избранной конфигурации своей воли они остаются навсегда (в отличие от воплощенного духа – человека, который в покаянном творчестве может ежесекундно менять вектор своей жизни).
Сатана – ангел (хотя и павший). И поэтому он сам не может творить. Поэтому и нуждается он в творческой мощи людей. Поэтому и нужны ему все новые Фаусты – в том числе и Мастер.
Воланд одалживает Мастеру свои глаза, дает ему видения. Мастер же (которого Булгаков выводит на сцену в тринадцатой главе) эти видения пропускает через свой литературный гений.
Воланд просто использует Мастера в качестве медиума. Но этот контакт в итоге выжигает талант Мастера, который по завершении своей миссии становится творчески бессилен.
Эта история очередного Фауста необычна, пожалуй, лишь одним: в жизни Мастера нет минуты решения, выбора. Оттого нет и договора. Мастер неспособен к поступкам. Он медиумично плывет по течению и оправдывает себя формулой иуд всех веков: иного, мол, и не остается «- Ну, и ладно, ладно, — отозвался мастер и, засмеявшись, добавил: — Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы! Ну, что ж, согласен искать там» (гл. 30).
Воланд просто подобрал то, что плохо лежало. Мастер не продал сатане душу. Он ее просто растерял (поступок, то есть сознательную отдачу себя сатане в булгаковском романе совершает лишь Маргарита).
Трижды и тремя разными способами вводится пилатова линия в текст московского романа. Сначала как прямая речь самого Воланда. Затем – как сон Иванушки, и, наконец, как рукопись романа Мастера. При этом стилистически, сюжетно, идейно текст из всех трех источников оказывается поразительно един. Кто может контролировать все три этих источника? Если роман есть произведение только Мастера – то лишаются ответа два вопроса: 1) откуда Воланд мог знать роман московского писателя, с которым он якобы даже и не был знаком в первый день своего пребывания в столице СССР? 2) Как роман Мастера мог войти в сон Ивана Бездомного?
Но эти вопросы снимаются, если предположить, что Воланд изначально вдохновляет Мастера в его творчестве. Мир снов, наваждений и теней — это родной мир Воланда. Только Воланд имеет достаточно сил для того, чтобы воспользоваться всеми тремя вратами. Значит, он и есть подлинный автор этой антиевангельской версии евангельских событий
Да и тот факт, что эпиграф булгаковского романа относится именно и только к Воланду, показывает, в ком именно Булгаков видит главного персонажа своего повествования. Роман Булгакова и в самом деле – о «Черном богослове».
РОМАН ИЛИ ЕВАНГЕЛИЕ?
То, что сам Булгаков в «романе о Пилате» видел «евангелие сатаны», мы уже знаем. Но как об этом может узнать читатель, взгляд которого не допущен к записным книжкам писателя?
Подсказку вдумчивый читатель найдет в знаменитой фразе «рукописи не горят». В устах Воланда – это четкая претензия на то, что инспирированная им рукопись должна заменить собою церковные Евангелия или по крайней мере встать с ними вровень.
Дело в том, что «рукописи не горят» – это цитата. Цитата пусть и не текстуальная, но смысловая. В самых разных религиозных традициях утверждалось, что спорные дела надо доверять суду стихий – воды или огня.
<...>
Итак, распространенное верование говорит, что не разрушается то, что сохраняет Бог, в том числе – истинные книги, содержащие правильное понимание библейских сюжетов. Теперь же Во